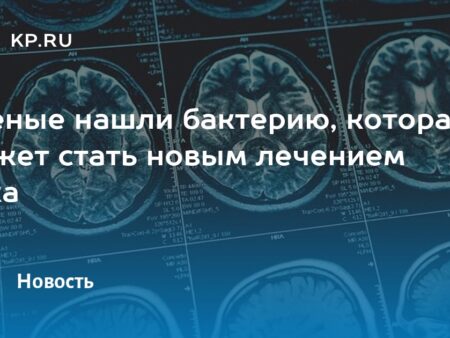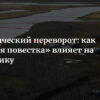Александр Трифонов поделился размышлениями о творчестве, монашестве, «измах» в искусстве и роли искусственного интеллекта.
Работы современного художника Александра Трифонова, без сомнения, привлекают внимание. Они не оставляют равнодушными, вызывая порой улыбку и узнавание, а иногда и глубокие переживания. Его уникальные картины сложно сравнить с чем-либо, кроме самого Трифонова. Мы побеседовали с мастером о ключевых мотивах его искусства, источниках вдохновения, концепции «третьего русского авангарда» и планах на будущее.

«Отец никогда не критиковал»
— Каково ваше первое художественное воспоминание? Интерес к живописи возник под влиянием отца, или это было ваше собственное призвание?
— Как и многие дети в детском саду, я рисовал на бумаге лисичек, бабочек, слоников и солдатиков. Мой отец, будучи очень добрым человеком, всегда поощрял это увлечение: вовремя подкладывал мне бумагу и говорил: «Рисуй, молодец!» В подростковом возрасте я уже сам стремился к творчеству. Я очень благодарен отцу за то, что в период моего становления он не занимался критиканством. Часто родители бывают слишком требовательными, стремясь, чтобы их ребенок был лучшим и всё делал идеально. Это подавляет творческие импульсы, ведь творчество — это интимный процесс, который лучше всего развивается без давления. В этом плане отец был очень мудр: он видел мои неудачи, но неизменно поддерживал.
— Он давал вам советы?
— Да, направлял. Когда я работал в театре, он советовал мне сузить тему, не распыляться. В трудные моменты его поддержка была неоценимой. Сейчас, с высоты прожитых лет, мне кажется, что без него я мог бы сбиться с пути, потеряться. Занятие искусством — это своего рода служение, чем-то похожее на монашество. В монастырь уходят не ради денег или наград, а в поисках чего-то иного, в поиске себя. Так и в творчестве: ты просто идешь и делаешь. Бывают успехи и неудачи, но время не стоит на месте, и каждый раз приходится начинать многое заново — это непросто. В жизни художника бывают моменты отчаяния, творческого тупика — обычно в возрасте 30–35 лет. В такие периоды очень нужен мудрый человек рядом, который поможет спокойно пережить этот кризис, переждать и двигаться дальше — здесь я снова вспоминаю своего отца с благодарностью. У нас дома царила творческая атмосфера, и мне казалось, что так живут многие, но это оказалось не так! За столом мы обсуждали классику — Достоевского, Чехова, общались со Станиславом Рассадиным, Фазилем Искандером, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой, и всё это дало свои плоды в будущем.
— Вы как художник работали во многих сферах: театр, музыка, иллюстрация книг.
— Я проиллюстрировал множество книг, в том числе произведения Александра Ширвиндта, Владимира Васильева… С одной стороны, это отвлекает, но с другой — обогащает, давая сюжеты, к которым я впоследствии обращаюсь. В общем, у меня то, что сегодня называют синергией, но это получилось не специально. Я никогда ни под кого не подстраивался и не повторял чужую судьбу; жизнь сама понемногу выводила меня на различные виды работы — театр, книги… У меня ведь свой уникальный стиль, я иду от себя, опираясь на лучшие достижения прошлого столетия.
— Как проходила работа над книгами вашего отца? С родителями ведь всегда нелегко! (Отец художника — писатель, критик и издатель Юрий Кувалдин.)
— Было очень сложно. Отец был крупным издателем, и когда я был подростком, он предлагал мне оформлять книги. Но что я тогда мог оформить? Я пытался, но попытки были не очень удачными, поэтому он отдавал работу наемным художникам. Когда я уже стал зрелым мастером, он мог использовать мою картину, которая ему нравилась, для обложки. Если раньше это был некий аванс мне, то теперь наоборот. Сейчас я сам выпускаю книгу отца и помещаю на обложку свою картину — она действует как «локомотив», привлекая внимание. Мы в этом плане очень срослись.

«Современники не должны тебя понимать»
— Мы с вами обсуждали, что дать название стилю художника — задача не из лёгких. Но вы всё же называете свой стиль рецептуализмом.
— Да, мне нравится играть с этим понятием. Хочется подкрепить свою работу неким научным объяснением, поэтому я двигаюсь в русле рецептуализма, нового синтетического стиля. Литератор Артём Комаров пытался связать этот стиль с латинским словом receptio — заимствование, воспроизведение. Хотя, честно говоря, многие относятся к этому скептически. Современники вообще не должны тебя воспринимать, ты работаешь не для них. Сейчас меня привлекает искусственный интеллект: он начинает улавливать новые смыслы. Я наблюдаю за развитием этой технологии и понимаю, что за ней будущее, она будет формировать общественное мнение в следующем столетии.
Существует мнение, что все «измы» — это пустые выдумки, многие из них притянуты за уши. Основные были придуманы французами, например, импрессионизм. Художники работали группами, и это удобно для людей и исследователей — объединять мастеров в направления. Если получится — хорошо, если нет — ничего страшного, я открыт к классификационным экспериментам.
— Если писать не для современников, то для кого же?
— Однажды отец объяснил мне, что это философский вопрос. Современники, конечно, приобретают картины, и я вижу, что покупают их представители молодого и среднего поколений. Но, например, та публика, которая покупала произведения искусства пятнадцать лет назад, никак меня не воспринимала. Однако это не значит, что я не существовал; мне нужно было развиваться и дорасти до себя сегодняшнего. У каждого свой срок, и чтобы правильно ориентироваться в искусстве, нужно отстраниться от современного контекста и смотреть на мир глазами человека, живущего, условно говоря, в 2270 году.
Беда в том, что все мы смертны, но остаются материалы, фотографии, произведения, которые следующее поколение оценивает свежим взглядом. Молодежь загружает тебя на свои чистые «винчестеры памяти», и ты становишься для них интересен. Поэтому художнику важно понимать, что его произведения должны звучать сквозь время. Это также помогает защититься от сиюминутной рефлексии — меньше волнуешься о том, приняли тебя сейчас или нет.
— У вас ведь был такой период непризнания!
— Да, путь художника не усыпан розами. В России всегда бытовало мнение, что искусство должно быть исключительно реалистичным. Меня называли авангардистом, критиковали, но когда я оказался за границей, вдруг почувствовал совершенно иное отношение: там меня воспринимали как состоявшегося художника, им было интересно. А сейчас и наш зритель, и любители искусства изменились, нет уже всеобщего преклонения только перед академизмом. Стало свободнее и интереснее жить.

«В молодости я был крайне реакционен»
— Поэтесса Нина Краснова пишет о вас: «Как условен реальный мир, как реален мой мир» — говорит художник всеми своими картинами». Какова ваша творческая реальность?
— Каждый художник создает свой мир, и у меня он был довольно суровым. Мне нравится одна фраза: «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а кто в старости не стал консерватором, у того нет ума». Я в молодости был крайне реакционен, мне нравилось создавать жуткие, мрачные полотна. Отсюда и мотив бутылок — отражение аскетизма 1990-х годов: мы жили бедно, но свободно. Свой мир я строил из простых предметов. Даже в учебном театре ГИТИСа, где я работал, декораций почти не было — на чёрном заднике ставили стол, стул и бутылку — и спектакль начинался.
— Кстати, о мотиве бутылки: на ваших картинах она чаще всего открытая…
— Для меня бутылки были как люди; я долго развивал эту тему — мои бутылки и целовались, и обнимались, даже выставка была на Арбате в 2000 году под названием «Любовь к бутылке». Я полностью отработал и завершил эту тему.
— А спустя годы вы вернулись к ней в одной работе, картине «Моцарт и Сальери».
— Да, это редкое исключение, когда после пятнадцатилетнего перерыва я вновь обратился к этой теме. Но в данном случае это была необходимость, продиктованная сюжетом — яд, который Сальери подсыпает Моцарту, как описано у Пушкина. Сам мотив бутылки родился в театре; вспоминаю, например, постановки по Ибсену, как я снимал спектакли на камеру, а потом дома останавливал стоп-кадр на видеомагнитофоне и рисовал с него.
— Ещё о творчестве 1990-х: я долго рассматривала картину «Право на репродукцию», и очевидно напрашивается сравнение с «Мадонной с младенцем».
— Тогда я был очень реакционным, слушал «Гражданскую оборону», и это был вызов бессмысленности человеческой жизни: люди рождаются, изначально обреченные на известный конец. Поэтому это был некий протест, а «Право на репродукцию» — это право на размножение. С такими картинами меня гоняли, ни на какие выставки не брали, с общественных выгоняли, а свои я устраивал сам.
— Ещё одна смелая картина, о которой не могу не спросить: речь о «Завтраке «Московского комсомольца» — в ней юмор и боль одновременно, с печалью и тоской.
— Не поверите: историю её создания я не помню, но «МК» тогда была газетой номер один. Ты заходил в вагон метро, у всех в руках были газеты, и в первую очередь — «МК». Мне кажется, картина хорошо сделана, с энергией, мне даже сейчас не стыдно за неё.
— И посмеяться хочется, и затосковать легко.
— Такова была действительность; 1990-е были весёлыми, но в них было место и для серьёзных вещей. Я бы сказал, что картина нейтральная: есть оптимистические ноты — покурить-выпить, а есть и печальные. Важна ещё первая полоса газеты — там всегда были новости об убийствах, криминал, к этому тоже отсылка.
— Ещё один важный мотив — треснутая голова. Причем вначале она выглядела довольно мягкой, с закругленными углами, а со временем углы стали острыми — трагично.
— Голова с трещиной символизирует бессмысленность человеческого существования, пустоту внутри. Но со временем я постепенно охладел к этому приёму и сам изменился, стал, наверное, более буржуазным.
— Ещё одна любопытная и даже трогательная история у вас есть, которая выбивается на общем фоне работ, — собака Пит, работа в другом стиле, близком к реализму. А картина «Анубис» — продолжение истории с собакой, трансформация мотива?
— Да, 1999 год. Пит — мой любимый пёс, мы прожили с ним 15 лет, поэтому я изображал его так романтично. В молодости порой топчешься на месте, я съездил в Египет, искал пути своего развития. Как у Виктора Цоя: «В поисках сюжета для новой песни». У художников тоже происходит поиск сюжета. Есть авторы, которые творят от души, без разбора. У меня иначе — я вынашиваю идею, продумываю, а потом реализую. Выбор сюжета для меня — трудная задача.

«Если хочешь быть художником, нужно что-то заявлять»
— Возвращаясь к синтезу искусств в вашей творческой биографии, как музыканта меня зацепила и впечатлила история музыкальных инструментов, кочующих в ваших работах. В основном струнные и клавишные…
— В одной из музыкальных школ Вильнюса развесили мои картины, а потом мне сказали, что я очень музыкальный художник. Это было приятно и удивительно, потому что я не из этой сферы, не знаток музыки. Одна из моих первых работ — «Ростропович». И форма виолончели мне близка — она оживает, далее её развивает контрабас, затем клавишные. Эта тема мне подходит, в отличие от хаотичной природы, — в музыкальных инструментах есть логика, чёткость: прямые струны, прямые клавиши соответствуют моему строгому композиционному восприятию.
— У вас эта логика и в ранних работах о театре прослеживалась.
— Да, я ведь начинал монтировщиком на сцене, долгое время занимался тяжёлой работой, интересовался техническими вещами — штанкетами, прожекторами, кулисами, они меня вдохновляли.
— Нина Краснова говорит о вас как о лидере, фронтмене третьего русского авангарда. Согласны с этим определением?
— В этом есть доля шутки. Первый русский авангард — начало XX века, второй — нонконформисты, запрещённая живопись, лианозовцы, белютинцы, 1960–80-е годы. А мы, получается, — третья волна. Можно открещиваться от этого, но на самом деле речь снова идёт о стиле. Можно во всех интервью говорить: «Я рисую котиков, мне ничего не надо, отстаньте от меня», а можно ходить и называть себя лидером третьего русского авангарда. Мне кажется, что второй путь интереснее. Если ты хочешь быть художником, то нужно что-то заявлять. Но сейчас слово «авангард» становится расплывчатым, поэтому я отношусь к этому спокойно.
— Какова дальнейшая траектория вашего творческого движения?
— Сейчас я также пытаюсь синтезировать, работаю с театральными заготовками, но, с другой стороны, мне нравится заниматься трансформацией классических произведений мировой живописи. Беру, например, «Портрет кардинала Алессандро Фарнезе» Тициана и исполняю его в своём стиле. Чувствую себя режиссёром, который берётся за «Чайку», которую ставили уже не одну сотню раз, но каждый режиссёр хочет поставить Чехова по-своему. Почему тогда художник не имеет права исполнить классические средневековые сюжеты? Мне это интересно. Опираясь на лучшее, я создаю своё, современное. Мне отец когда-то сказал: «Тебе надо всю мировую живопись отрисовать».

Меня волнуют темы любви, жизни и смерти, как бы банально это ни звучало. Я хорошо себя чувствую в историческом жанре, увлечён пейзажами, мне нравятся горизонтальные плоскости. Проиллюстрировал многих писателей. Кстати, литература — это бесконечный источник сюжетов. Хотелось бы отрефлексировать мировую литературу. Поэзия — это глубоко, может быть, сегодня и не модно… Но мне кажется, что человечество к этому вернётся.
В какой-то момент мне говорили, что картины больше не нужны, всё актуальное искусство ушло в объект и перформанс. Сейчас даже смешно это слышать! Мир перевернулся, и всем снова понадобились картины!